![]()
На Сорочинской ярмарке, о которой ведётся рассказ, случилась чертовщина, и в эту чертовщину — «все считали преступлением не верить», что, конечно, в литературном отношении ахинея. Преступление тут ни при чём. Гоголь пытается сказать нечто совсем простое: «никому не приходило в голову не верить», но сказать этого не умеет — и надевает штаны через голову.
Юрий Колкер
ВДОЛЬ ПО ГОГОЛЮ
(главы из новой книги)
 Я пишу не о Гоголе, а о себе. Я не принимаю Гоголя со школьной скамьи, я чувствовал отталкивание от него всю жизнь, ни одну его вещь никогда не мог дочитать до конца, — и вот мне захотелось дочитать-через-не-могу, дочитать и понять, чем Гоголь для меня неприемлем.
Я пишу не о Гоголе, а о себе. Я не принимаю Гоголя со школьной скамьи, я чувствовал отталкивание от него всю жизнь, ни одну его вещь никогда не мог дочитать до конца, — и вот мне захотелось дочитать-через-не-могу, дочитать и понять, чем Гоголь для меня неприемлем.
Самая структура этих заметок свидетельствует о том, что писались они не для почтенной публики, а для самого сочинителя. Они мелочно-подробны и незанимательны. В жанровом отношении это смесь критики, изложения, конспекта и воспоминаний. Отсюда и повторы. Наткнувшись на новое подтверждение сказанного, я не ссылаюсь на сказанное мною ранее, а заново формулирую моё наблюдение.
Критика моя не вполне однобока. Понравившееся я хвалю.
Писал я, как уже сказано, чтобы понять. Ненаписанное не понято — так это у меня сызмальства. Понять значит написать. Написанное становится реальностью, в то время как только продуманное — ускользает.
Писать для себя не значит прятать написанное. Отклик требуется всегда и всем. Отдельные места из этих записок я обсуждал с друзьями. Когда иным из них показалось, что сочинение моё неплохо бы обнародовать, я с готовностью согласился. Незачем говорить, что опубликованное — ещё в большей мере реальность, чем просто написанное; ещё в большей мере служит пониманию, которое было и остаётся моею первейшею целью.
Думаю, что за двести без малого лет никто не прочёл Гоголя так, как я (безотносительно к тому, хорош ли мой подход). Те немногие, кто Гоголя действительно любит, закрывают глаза на его самые несомненные промахи. Громадное большинство бездумно принимает на веру канон о гениальности Гоголя и читает Гоголя по диагонали, что на поверку означает равнодушие. А те очень и очень многие (что их много, я знаю не по наслышке), кто Гоголя не любит, никогда не доводили свои возражения до сколько-нибудь подробного критического разбора текстов Гоголя.
О себе в связи с Гоголем я пишу в 2021 году, вообще же сочиняю с раннего детства, а живу в уединении. В ходе затворнических десятилетий язык мой начал чуть-чуть отличаться от стандарта, установленного московскими розенталями; например, я всегда ставлю две точки над буквой ё (где этого требует звучание слова), в кавычки заключаю только цитаты (и никогда не заключаю названия), а слово чорт пишу через о (что было нормой на моей памяти). Прочие отличия — тоже все мелкие, а вместе с тем и категорические. Не думаю, что у кого-либо из живущих больше прав на русский язык, чем у меня. По теперешней московской орфографии я публиковаться не готов.
«НЕДОУМЕВАЕТ УМ»
Гоголь 1: Сорочинская ярмарка
В 1835 году Белинский пишет:
«…г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным…»
Как странно! Пушкин ещё жив (и не написал Из Пиндемонти); живы Боратынский, Жуковский, Вяземский, Языков (Лермонтова, ему 21 год, понятно, никто всерьёз не берёт)… а «глава поэтов» — двадцатипятилетний Гоголь, чьей настоящей литературной карьере — четыре года с хвостиком!
Но это бы ладно: гений явился разом, как метеор, и всех осчастливил, — а вот как Гоголь поэтом оказался?! Ведь, кажется, ясно, что поэт всё-таки стихи пишет, а стихи от прозы явственно отличаются одним: заключённой в них песней. Текст, в котором песенное начало отсутствует, — не стихи. И сколь бы поэтична ни была проза, её автора всё-таки не называют поэтом, разве что в очень поэтичной критике, вроде этой критики Белинского. Гоголь такую критику немедленно оценил — и назвал своё последующее сочинение, главное, которое, как ни поверни, всё-таки сатирическая повесть, — поэмой, что, на мой вкус, шалость весьма безвкусная.
Есть и второе самоочевидное определение стихов, перекликающееся с первым: стихи — текст, в котором форма, по своей важности, не уступает сообщительному содержанию и даже подчас перевешивает его, потому что обыкновенно сама является главным содержанием произведения, элементы же этой формы всегда одни: ритм и звучание слов. Подлинная песня, уж не говорю: песнь, возникает не из мысли, а из мелодии, из аккорда, начинается не мыслью, а звуком и ритмом; любая песня — и как раз в силу этого — иррациональна по своей природе, поскольку её сообщение поручено ритму и звучанию слов не в меньшей мере, чем семантике, в речи же обычной, рациональной, прозаической — важнее сообщительная или рассудительная сторона. Стихи — искусственнее прозы и в этом смысле ближе к искусству, понятому узко: как мастерство в соединении слов. Настоящая проза живёт большими периодами (всякое искусство ритмизовано) и в меньшей мере озабочена малыми; она невозможна без словесного мастерства, но нуждается в нём куда как меньше, чем стихи.
Словесное мастерство Гоголя с отрочества было для меня под вопросом. Открываю наугад его раннее сочинение, Сорочинскую ярмарку, которую, как ни бился, я не смог прочесть в школьные годы, — и тотчас спотыкаюсь.
«Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл… река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшей с русой головы копною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее нет конца, — она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами…»
Позволительно спросить: с кем сравнивается река? Кто эта первая «она» с копною русых тёмных волос, с презрением кидающая украшения? Этой женщины нет в предыдущем абзаце, где нарисованы робкая девушка-подросток и её мачеха-мегера: обе не годятся на роль капризной красавицы. Река «своенравна, как она» — но эта «она» определяется задним числом, определение подвешивается к уже произнесённому местоимению! Перед нами грамматическая несуразица. «Река-красавица» всё-таки река, а не женщина. Нелепое она = она лишает смысла всю эту выспреннюю конструкцию.
И неужели автор не слышит, что первое «как» («своенравная, как») немедленно уничтожается следующим за ним «так» («так завидно»)? Сравнение кусает себя за хвост. А содержательная сторона? Эти «лилейные плечи» и «мраморная шея» — неужели не безвкусица? Откуда взялась и что делает на украинском просёлке XIX века кустодиевская купчиха?
Право же, неловко, — и не за Гоголя, который, как ни поверни, всего лишь начинающий писатель, а за Белинского, назвавшего Гоголя поэтом и главою школы. Властитель дум — не додумал.
Но это ещё не вся ярмарка. На ярмарке происходит много любопытного; например, такое: «пьяный жид давал бабе киселя». Если прочесть это буквально, выходит чепуха. Что значит «давал»: продавал кисель, угощал киселём? Ясно, что тут идиома, смысл которой угадывается (по-русски дать — хорошего не означает). Заглядываем к Далю — так и есть: «Дать кому киселя́, вытолкать колѣнкомъ». Но выражение это вовсе не обиходное, да вряд ли и было обиходным; украшает ли оно текст Гоголя, дело вкуса.
Что до пьяного жида, то это вещь вообще очень возможная, но в местечковую пору — едва ли не только на библейском празднике или на еврейской свадьбе: среди своих, на гойской же ярмарке XIX века его пьяным вообразить трудно. Здесь, однако, Гоголя не упрекнёшь. Непонимание евреев в ту пору во всей Европе простиралось до анекдота. Чемпион в этом не Гоголь, не Достоевский или Некрасов, если брать знаменитых русских антисемитов, а — Стендаль, великий Стендаль, так явственно повлиявший на Толстого. У Стендаля, соберёмся с духом, еврейская мать (идише-маме) обкрадывает подростка-сына и с украденными деньгами… убегает из дома. И никто в Европе не охнул, прочитав такое. Дикость этой картины стала очевидна спустя многие десятилетия, когда в евреях вдруг увидели людей.
На Сорочинской ярмарке, о которой ведётся рассказ, случилась чертовщина, и в эту чертовщину — «все считали преступлением не верить», что, конечно, в литературном отношении ахинея. Преступление тут ни при чём. Гоголь пытается сказать нечто совсем простое: «никому не приходило в голову не верить», но сказать этого не умеет — и надевает штаны через голову.
Дальше — в том же роде, на каждой странице. Например: «один из толпы народа, спавшего на улице». Но, во-первых, толпа народа — это масло масляное, а во-вторых, толпа не может спать; ни сидячих, ли лежащих людей, как бы много их ни собралось, не называют толпой; толпа непременно стоит.
Ещё: «он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и неподвижен посреди дороги». Причём здесь гроб? Почему гроб тесный? Почему покойник — «жилец»? Ведь в умершем главное как раз то, что он уже не жилец. И нужно ли понимать Гоголя так, что если гроб просторен (такое бывает у богатых), то его «жилец» уже не страшен? Герой Гоголя всего лишь потерял дар речи, потерял сознание — только это Гоголю и нужно сказать. И сказать можно двумя словами: упал замертво. Нет, «главе школы» требуется набор бессодержательных, ничем не оправданных слов. Получается нечто уродливое. Может, в этой нарочитой уродливости Белинский поэзию усматривает?
Вот каков у Гоголя рассвет: «Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу…» То есть, выходит, — горизонтально понеслись, что возможно разве лишь при ураганном западном ветре. Образ — нелеп, беспомощен.
Закат немногим лучше рассвета: «Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро…» Причем здесь полдень и утро? Что они добавляют к картине заката? Они эту картину замазывают, отменяют. И почему они идут у поэта в обратном порядке?
А «разверстые пальцы» чего стоят! Может, и это — поэтический троп, высокая поэзия?
Нет, я вижу другое: Гоголь потому не может в простоте слова сказать, что не умеет этого делать. Своими псевдопоэтическими несуразицами он прикрывает, сознательно или бессознательно (скорее второе), тот несомненный факт, что он не вполне владеет русским языком. Родом он украинец, русский язык для него не родной, Гоголь, к тому же, молод, в столице оказался недавно, в писательстве делает первые шаги, — и простить ему все эти и многие другие огрехи, при несомненном его таланте, очень можно, — только нужно сперва определить их как огрехи и недостатки, а не превозносить как достоинства и попусту кружить голову новичку. Безудержные похвалы — дурная помощь начинающему.
Что Гоголь именно начинающий, видно и из его композиционных промахов. «Один из толпы народа» обращается к цыгану с просьбой «вырубить огня». Огонь вырубает «другой цыган», из чего приходится заключить, что и первый, «один из толпы народа», тоже был цыган. Чуть дальше получается, что и вся-то «толпа народа» — цыганы (пишу это слово по-пушкински, что и Гоголь делает), а это совсем не было обозначено при начале сцены и вряд ли отвечает мысли Гоголя, ведь на улице спали не только цыганы. Гоголь путается, он пишет кое-как — оттого что писать толком не умеет.
Гораздо хуже другое. Шестнадцатилетняя Параска, отправная точка, важнейшая фигура, если не главная героиня Сорочинской ярмарки (потому что с неё начинается, ею движется и её свадьбой завершается главная сюжетная линия рассказа), исключена Гоголем из повествования в главе IV, в первой трети рассказа, и вновь появляется только в главе XIII, за три страницы до конца рассказа. По своей молодости и полной зависимости от отца и мачехи девушка-подросток просто не может не быть с ними всегда и всюду, — но больше чем половину сюжетного времени она находится за кулисами. Её отсутствие бросается в глаза всё больше и больше по мере развития сюжета и, наконец, подрывает всякое доверие к автору: Параска просто должна находиться в хате в сцене охватившей героев паники, а её — нет! Её нигде нет. Автор о ней забыл. И приходится сказать, что «глава литературы» в своём нехитром повествовании допускает совершенно младенческий промах: что он — не владеет композицией совершенно так же, как языком.
О таких мелочах, как два однокоренных слова подряд (вроде «позабыл было»), или «усмешка» в значении «полуулыбка», или «в самом деле» в значении «как раз», или старушки, «на [!] ветхих лицах которых веяло равнодушием [!] могилы», можно говорить, а можно и не говорить: язык Гоголя всюду пестрит такими провалами, всюду плох.
Но, изъясняясь по латыни, — нет книги столь плохой, чтобы в ней не нашлось чего-либо поучительного. Не столько к недостаткам рассказа, сколько к особенностям эпохи Гоголя и самого Гоголя нужно отнести один примечательный портрет:
«В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек [всякий?], взглянувший на него, уже готов был [бы?] сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица…»
Фраза эта корява не больше других фраз рассказа, портрет же несколько обеляет писателя в его всеми признанном антисемитизме: из портрета видно, что не одних только евреев Гоголь за людей не держал, а всех «чужих», всех не православных, непонятных, живущих по-другому. И нельзя сказать, что он тут одинок. От ксенофобии и оголтелого имперского патриотизма не свободны лучшие умы того времени, что прекрасно видно на отношении русских писателей даже не к нехристям, не к евреями и цыганам, а к христианам: к полякам. Тут не только у Тютчева и у Лермонтова, но и у самого Пушкина, да что там! у всех, за исключением разве что Одоевского, находим слова, не делающие чести ни писателям, ни обществу, в котором они живут. Не на польском ли вопросе свернул себе шею (тридцать лет спустя) и Колокол Герцена? Никто в России не желал видеть в поляках равных.
А вот композиционно, в плане структуры рассказа, гоголевский портрет цыгана совершенно неуместен, потому что в рассказе злобный цыган не оправдывает своей висельной внешности, наоборот: ведёт себя самым порядочным образом: держит слово, не ворует, а покупает, при покупке даёт задаток, главное же, пусть хоть и не бескорыстно, а приводит всё дело — весь рассказ — к счастливому концу: к свадьбе. Ружьё, вывешенное Гоголем на всеобщее обозрение, — гнусная внешность цыгана, — не стреляет! И это пишет — «глава литературы, глава поэтов»?! Разве в отроческих произведениях Пушкина мы видим что-либо подобное этой неразберихе?
Ещё одно занятно: православная свадьба у Гоголя совершается почему-то, как у цыган: ни поп, ни аналой, ни церковь не упомянуты. Вместо венчания — пир, всеобщее веселье, приплясывающие «старушки, на ветхих лицах которых веет равнодушием могилы». Удивительный промах.
Но: «Гром, хохот, песни слышались тише и тише…» Заключает рассказ стихотворение в прозе, знаменитый образчик гоголевского лиризма; его стоит выписать целиком:
«Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».
Звук — слышит грусть в собственном эхе! Звук — думает! «Старинный» вместо «состарившийся». Вот уж поэзия, нечего сказать! Ясно, что Пушкин своё место оставил и уступил Гоголю. Одно неясно: почему ни один комментатор не сообщает, что это стихотворение в прозе Гоголя — прямое заимствование, притом как раз из стихов Пушкина, которые Гоголь для удобства читателей пересказывает корявой прозой? Не где-нибудь, а в знаменитейшем своём стихотворении, 19 октября 1825, Пушкин пишет
Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
Прогресс, не так ли? Куда уж Пушкину. У Гоголя — лучше!
Верно: мы тут видели недостатки раннего Гоголя, но и поздний Гоголь совершенно так же плох по части языка и «поэтичности». Там ещё дикое, неприкрытое самолюбование добавляется, но это отдельный разговор. Из позднего Гоголя беру умопомрачительный оборот: «недоумевает ум» и прилагаю его к раннему Гоголю, которого Белинский венчает на царство: «недоумевает ум», как можно было не видеть, что язык Гоголя плох?
Но это лишь в первый момент ум недоумевает, а во второй — ответ является во всей его очевидности.
Повести Белкина (со Станционным смотрителем, из которого, не из Шинели Гоголя, вышла вся последующая русская проза) и Вечера на хуторе близ Диканьки (их первая часть) были изданы чуть ли не в один и тот же день. До этого дня — прозы действительно русской в России не было. Была в изобилии переводная, оригинальная же неустранимо напоминала переводную. Даже Юрий Милославский (1829) Загоскина, «первый хороший русский роман» (Белинский), выглядит переводным, заставляет вспомнить Вальтера Скотта. Литературная газета Дельвига — и та не находит русской прозы для своих страниц, а ведь и Пушкин, и Вяземский, и весь их блистательный круг были сотрудниками Дельвига.
И вдруг — как гром среди ясного неба — нечто совершенно своё, местное, чему с полной очевидностью нет прототипа на Западе. Жуковский раскрывает восторженные объятия Гоголю именно потому, что сам он, Жуковский, — до мозга костей немец и латинист. Жуковский передаёт Гоголя по эстафете Плетнёву, тот приводит Гоголя к Пушкину, и Пушкину тоже — и по той же причине — нравится новый автор, хотя читает он его в чересполосицу и больших восторгов отнюдь не выражает, все эти восторги притянуты за уши задним числом.
Получается вот что: Гоголь въехал в литературу и на пьедестал — на этническом, этнографическом, узко-национальном колорите. Все его первые восторженные критики, все его новые опекуны — «страшно далеки от народа», не видят ничего живого и творческого в своих крепостных, а тут — нечто несомненно народное, да ещё и весёлое, задорное: то самое, чего так не хватало русской литературе. Что̀ русский и украинский народы — одно целое, что это один, а не два народа, было для всех тогдашних, включая Гоголя, аксиомой.
Местный колорит, а с ним — и украинские слова, воспринимавшиеся как диалектизмы, — вот главный и единственный козырь раннего Гоголя. Этих будто бы диалектизмов, а на деле иностранных слов, в Сорочинской ярмарке так много, что Гоголь предваряет рассказ словарём, однако ж этот словарь далеко не полон, и сегодняшнему читателю не прочесть рассказа без того, чтобы то и дело не заглядывать в общий словарь.
Тавлинка, кухоль, высуслить, товченики (которые нужно отличать от вареников, галушек и пампушек), кныши, дрибушки, синдячки* — ряду этому конца не видно… — и в этом ряду преспокойно находят себе место «разверстые пальцы», воспринимаемые не как ошибка, а как диалектизм.
Ответ найден и, мне кажется, очевиден. Но это не весь ответ.
Шла волна: романтическая волна, целью которой было смести с лица земли классицизм с его красотой, соразмерностью и простотой: заменить аполлоническое начало дионисийским, стройное — буйным. Никогда доселе «народ» не представлялся писателю чем либо, кроме черни, — под сенью романтизма он вдруг сделался источником мудрости и вдохновения. Не в одном Петербурге (который был в эту эпоху меристемой Европы), а во всём мире внезапно произошёл эстетический сдвиг, если не переворот: бельведерский мрамор вдруг разом всем опротивел. Совершенство и даже стремление к совершенству сделались мещанством, пошлостью, академизмом. Необузданность возводится в ранг естественности.
В поколении Гоголя, Герцена, Лермонтова романтическая волна уже превратилась в цунами. Все видят, что стих Лермонтова коряв и беспомощен рядом со стихом Пушкина, иногда и просто безобразен («Из света и пламя»), но этот стих воспринимается как дуновение свободы — и как раз именно в силу своей корявости. Лермонтов ничего в стихах не довёл до конца, у него есть изумительные фрагменты, но нет ни одного совершенного стихотворения, — однако ж именно это и требовалось! Герцен и другие большие люди эпохи — этой расхлябанностью словно жажду утолили: так это им пришлось по душе. Незавершенность, несовершенство — стало знаменем, стало свободой… Теперь мы знаем, что такие восстания против красоты повторяются. В России второе такое восстание началось футуризмом и увлекло не одну только бунтующую чернь и мещан: оно как на крючок поймало людей думающих и талантливых, вроде Тынянова, Романа Якабсона и Лидии Гинзбург. «Недоумевает ум», когда видишь их в мышеловке жалкой узколобой эпохи, которая им самим представляется великой революцией.
Не Гоголь поднял романтическую волну, эту «войну народную» XIX века. Она шла из Европы и из Америки, где гонфалоньерами в то время были Вальтер Скотт и Фенимор-Купер. Обоих причисляли к высокой литературе. Второй, странно вымолвить, шёл у Белинского за большого писателя — и как раз в силу своей народности: он отрыл литературному миру неслыханный мир американских индейцев. А Гоголь — открыл украинцев. Гоголь оказался искусным сёрфингистом, сумел оседлать волну, взлететь на её гребень в нужное время в нужном месте, — вот в чём главный его фокус. Место было то самое: Петербург бредил народностью, гнал академичность с её неустранимой (даже в прозе Пушкина) печатью XVIII века. Не тогда ли появился и термин ложно-классический, в значении: классицистический?
Мы помним: первые два года в Петербурге Гоголь не находит себе места ни в прямом, ни в переносном смысле; он даже того не знает, служить ли он приехал или писать (его главная мечта — принести пользу отечеству; с этой мечтою он и в гроб сойдёт). «Вы обо мне услышите что-либо очень хорошее или вообще не услышите», говорит он приятельнице перед отъездом в столицу (а та изумляется: в Полтаве от Гоголя ничего не ждали и услышать не надеялись). В столице Гоголь мечется, пытается стать актёром, нанимается писцом, зачем-то кидается, совсем потеряв голову, в Любек, где ничего не делает целый месяц. Всё идёт из рук вон плохо. Материнские деньги тают. И вдруг — еврика! Гоголь почуял дух времени; его осеняет гениальная догадка: путь в литературу лежит через узко понятую народность. Теперь — он в письмах просит у матери не только денег, но и местных анекдотов, сказок, преданий, басен, к которым только один критерий прилагается: обязательность местного колорита.
Так писец в четыре года становится писателем, «главою литературы», «главою поэтов». А когда ты уже глава литературы в глазах властителя дум, то есть, значит, в глазах всех, исключая разве что такого скептика, как Пушкин, — тогда почти всё, что выходит из-под твоего пера, встречает одобрение: люди ведь ждут хорошего. Тогда и сатирический лубок вроде Мёртвых душ может показаться поэмой.
(продолжение следует)
Примечание
* Юрий Колкер. Вдоль по Гоголю. Ганновер: Семь искусств, 2022
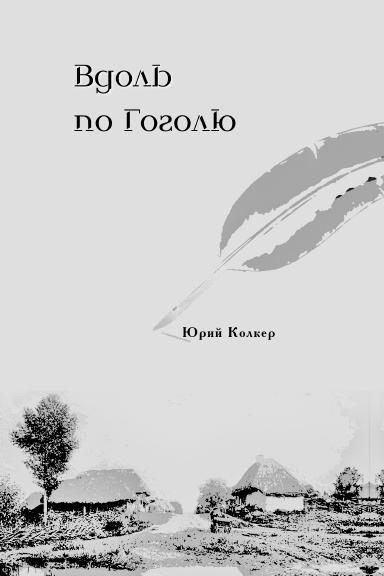


«Скоро вслед за ними все угомонились, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».
Рядовой случай: автору невнятна ирония — и получается: к чёму тут этот «охотник до сапогов», вдруг появившийся на странице и тут же исчезнувший из «поэмы» навсегда?..
Юрий Колкер, видимо, слишком серьёзен «по жизни.
Ю.Колкер, как и многие эффектные литераторы (Тарн, Тучинская и т.п.), не имеет кумиров и лупит наотмаш. Ну и что? Его право. Можно спорить, а можно оставить в стороне, пройти мимо.
Признаюсь, что не без опаски взялась я за комментарий к статье такого маститого поэта, как уважаемый Юрий Колкер. Потому что, «я не поэт и не брюнет…», если уж говорить прямо.
С Гоголем автор расправляется сурово. Вот только ряд фрагментов:
«Гоголь потому не может в простоте слова сказать, что не умеет этого делать. Своими псевдопоэтическими несуразицами он прикрывает, сознательно или бессознательно (скорее второе), тот несомненный факт, что он не вполне владеет русским языком».
«…мы тут видели недостатки раннего Гоголя, но и поздний Гоголь совершенно так же плох по части языка и «поэтичности». … Из позднего Гоголя беру умопомрачительный оборот: «недоумевает ум» и прилагаю его к раннему Гоголю, которого Белинский венчает на царство: «недоумевает ум», как можно было не видеть, что язык Гоголя плох?».
(Кстати, «недоумевает ум» можно отнести к тем речевым оборотам, которые были выработаны еще архаическим языковым мышлением. Для него характерны повторы, тавтология такие , к примеру, как «суд судить», «притязание притязать», «заветы завечать» и т.д.)
А «Мертвые души», по Колкеру, – это «сатирический лубок».
Возможно (не мне судить), автор прав, и критика Гоголя правомерна. Но меня смущает другое. Как не вспомнить его критику стихотворения И.Дегена «Мой товарищ…», которое он воспринимает прямолинейно, буквально?
«Не сочувствовать смертельной агонии — тут надо зверем быть. И лирический герой этого стихотворения — именно зверь, молодой ликующий зверь, ликующий от мысли, что сегодня не он, а другой достался Молоху, ему же валенки перепадут, он может поживиться на смерти ближнего», пишет Колкер. «Лирический герой радуется смерти товарища, пляшет над умирающим, собирается — задумайтесь! — греть руки над его кровью, снимать с живого валенки — и всё это говорит умирающему в глаза».
Но разве можно всерьез воспринимать, как герой стихотворения греет руки над «дымящейся кровью» умирающего товарища. Как не чувствовать, что это говорится нарочито, напоказ. Как не почувствовать этого ерничества, юродствующей интонации?
Но что такое юродство?
По ВИКИ, «Юро́дство — намеренное старание казаться глупым, безумным.
Поведение юродивого по форме часто нарочитое, иной раз провокационное, неадекватное». Но такая нарочитость у юродивого – маска, под которой скрывается «экстраординарное состояние духа человека, дерзающего сказать то, о чем другие молчат», по выражению Сараскиной.
Что я хочу сказать, вспомнив об этом стихотворении и его критике Ю.Колкером?
С одной стороны мы видим профессиональный анализ , касающийся сочинений Гоголя, а с другой – такая нелепость, поэтическая слепота и глухота, проявленные в критике стихотворения И.Дегена.
Какое-то здесь раздвоение…